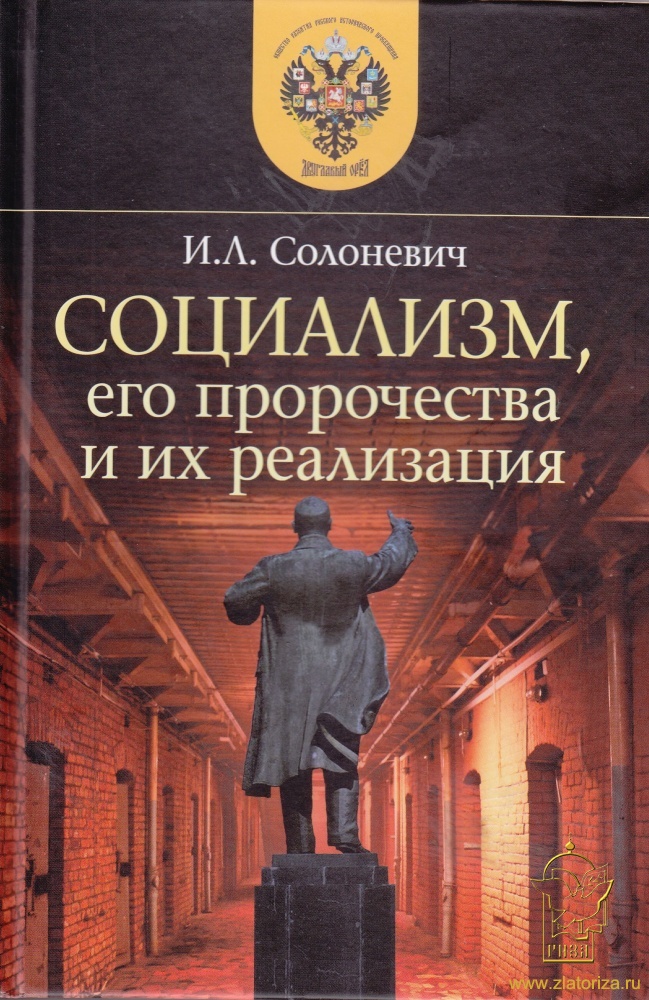
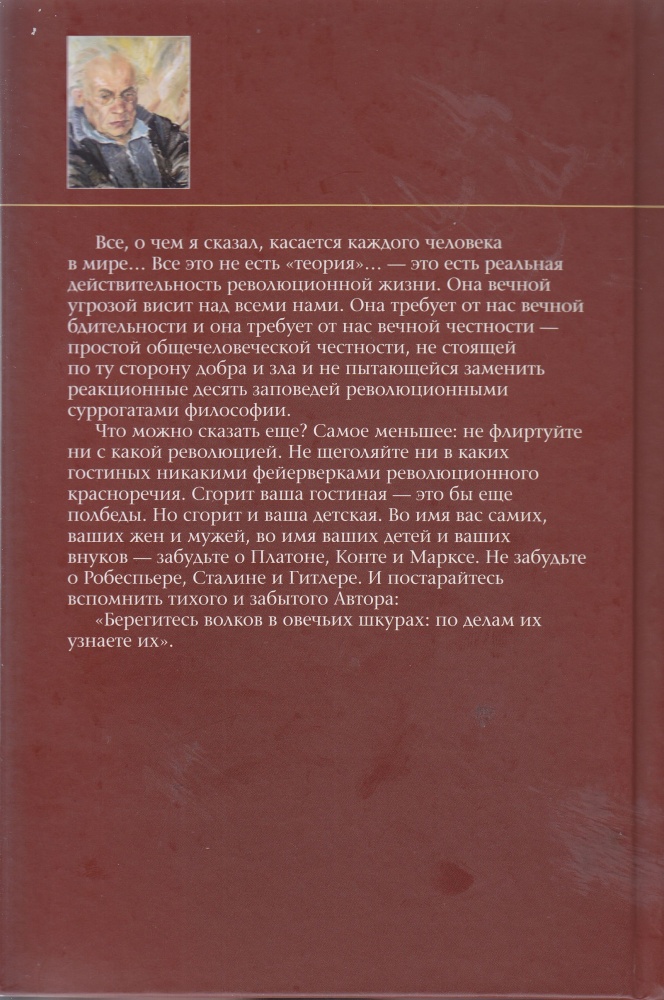
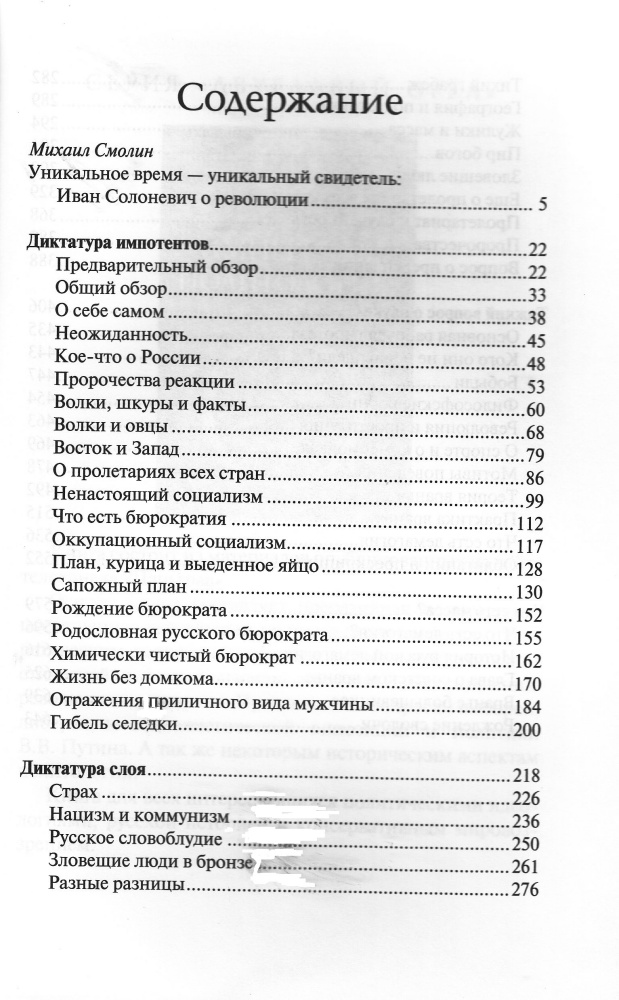
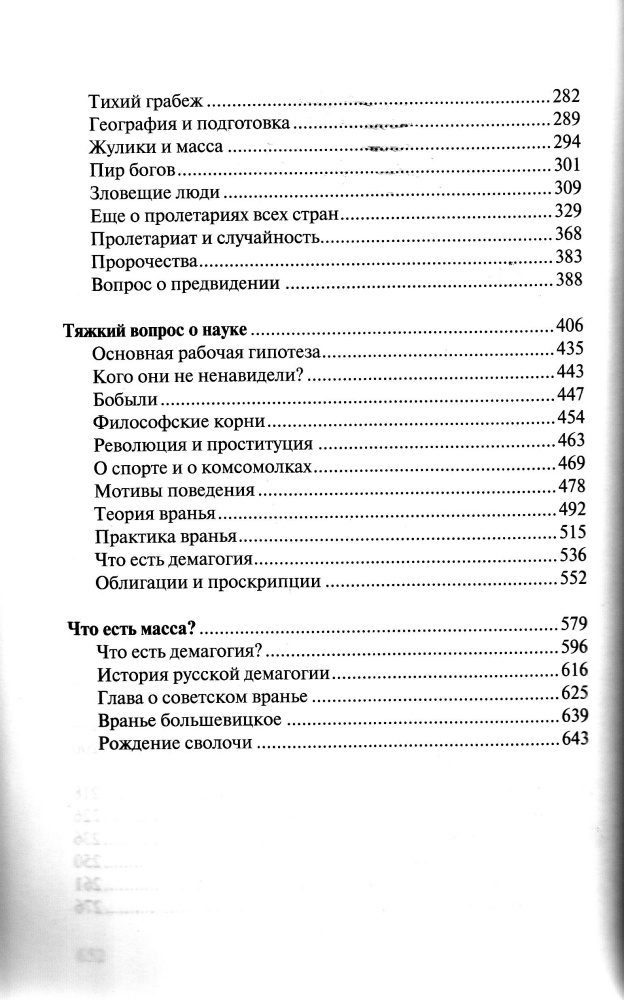
(0) |
С60 Социализм, его пророчества и их реализация., '— М.: Издательство М.Б. Смолина (ФИВ), 2019. - 656 с.
ISBN 978-5-91862-060-1
Работа посвящена трагедии христианской Европы и православной России. То, что произошло с христианским миром в XX столетии, по словам Ивана Солоневича, «станет материалом для новой легенды об изгнании из рая». Революция в России, Первая и Вторая мировые войны привели традиционную романо-германскую и православную русскую цивилизации к краю гибели. Христианскую традицию в нашем мире потеснила революционная философия. Книга обращена ко всем русским людям с величайшим предостережением о гибельности революций, «научных» философий, партий, социальных учений и физических извращений, всего того набора ложных знаний, которые ведут доверчивое человечество к гибели.
Фрагмент
Диктатура слоя
Зловещие люди
Социалистические теории и утопии свою основную ставку ставят на равенство, универсальное и всеохватывающее равенство, по мере возможности, во всем: в труде и отдыхе, в быте и заработке, даже в красоте, здоровьи, силе и любви. Если рассматривать вопрос о равенстве с точки зрения простого, “мещанского” здравого смысла, то можно будет, как мне кажется, установить тот довольно очевидный факт, что к равенству стремятся и будут стремиться люди, которые стоят ниже некоего, среднего уровня данной страны и данной эпохи. Те, кто занимает места на среднем уровне, тоже будут к чему то стремиться — но уже не к равенству, а к превосходcтву.
Неравенство людей мы должны признать, как совершенно очевидный биологический факт: Гете и Ньютон все таки никак не равны туземцу Огненной Земли — неравны всей суммой своих наследcтвенных задатков. Жизнь строится не на стремлении к равенству, жизнь строится на стремлении к превосходcтву. Если вы установите закон, согласно которому все футбольные команды мира должны играть одинаково и все дискоболы мира должны кидать диск только на 35 метров — то спорт прекратит бытие свое. Равенство в заработной плате (“уравниловка”), которую большевики одно время ввели в промышленности, подействовала на эту промышленность, как тормоз на все четыре колеса: потом пришлось бросить уравниловку и расстреливать идеалистов равенства. Как и во всех областях жизни, социализм, с истинно потрясающей быстротой, превращается — почти по Гегелю — в свою противоположность. На базе теоретического равенства сейчас создалось такое положение, когда один Гениальнейший Вождь Народов, окруженный дружиной уже раскрытой и еще не раскрытой сволочи (Троцкий, Бухарин, Молотов и проч.) бесконтрольно властвует над почти двухсотмиллионным стадом (трудящиеся). Но все это делается, конечно, во имя свободы, равенства и даже братства — по Каину и Авелю.
Равенства нет и быть не может: оно означало бы полную остановку жизни. Но, если мы признаем наличие неравенства со знаком плюс, то мы обязаны признать и наличность неравенства со знаком минус. Если есть люди, стоящие выше среднего уровня, то есть и люди, стоящие ниже — есть какой то слой умственных и моральных подонков. Большинство человечества находится где-то посередине между Геркулесом и кретином. Это большинство не строит ни науки, ни искусства, почему “гении” склонны обзывать его стадом. Но это большинство строит человеческое общежитие во всех его формах, начиная с семьи и кончая государством. Формы этого общежития никогда не соответствовали и никогда не будут соответствовать всем желаниям этого большинства, но они соответствовали и будут соответствовать его силам. Эти формы выковываются сотнями миллионов людей на протяжении сотен лет. Чудовищная сложность человеческих взаимоотношений, характеров, стремлений, борьбы за хлеб и борьбы за самку, борьбы за власть и за значительность (“Гельтунгстриб”) — все это в течение веков проверяется ежедневной и ежечасной практикой и отливается в более или менее законченный быт.
Все это строится грубо эмпирически. И все это не устраивает ни “гениев политики”, ибо это не соответствует их идеалам и теориям; и все это не устраивает подонков, ибо все это не соответствует их силам и вожделениям. Именно поэтому между гениями политики и подонками биологии устанавливается некая entent cordiale — гении ничего не могут ниспровергнуть без помощи подонков, подонки не могут объединиться для ниспровержения без помощи гениев. Гении поставляют теории, подонки хватаются за ножи. В подавляющем большинстве случаев, — может быть, и во всех случаях, — гении политики, философии и прочего не имеют никакого преdcтавления о реальной жизни; им подобает жить в состоянии гордого “splendid insolation”: ты царь — живи один. И в одиночестве разрабатывать теории, предлагаемые впослеdcтвии: теоретически — “массе”, практически — подонкам. Максимальный тираж имеют теории, предлагающие ниспровержение максимального количества запретов и в минимально короткий срок.
Из опыта трех великих революции европейского континента можно установить тот факт, что революция развивается параллельно с проституцией. Франция перед 1789 годом переживала так называемый “галантный век”. Россия и Германия наводнялись порнографией. Порнографическая и социалистическая литература подавляла все остальные виды печатного слова. В той и в другой были, разумеется, и свои “оттенки”. Наиболее приличная часть литературы, трактовавшая “проблемы пола”, воевала за “свободу любви” — об этом писали и Ибсен, и Бебель, и многие другие. Та “мещанская мораль”, которая запрещает незамужней девушке иметь ребенка — объявлялась варварской, поповской, капиталистической и вообще реакционной. Философия литературы и публицистика взяли под свою защиту “девушку-мать”. По этому поводу было сказано много очень трогательных слов.
За всеми этими трогательными словами было забыто одно: ребенок этой девушки-матери. Был забыт тот факт, что этот ребенок на всю свою жизнь остается без отца. Но отец необходим не только, как физиологический фактор зачатия. Он необходим, как моральный фактор, как защитник, .учитель, пример, как предcтавитель той, хотя и не совсем прекрасной половины рода человеческого, без которого семья все таки невозможна. Но ребенок “девушки-матери” не будет иметь ни отца, ни семьи. Он будет расти с чувством обиженности и неполноценности: “вот Коля и Маня имеют своего папу, а у меня папы нет”. Да и той же “девушке-матери” придется совмещать в себе одной функции двух супругов и двух полов. Итак: будет мужчина. который все-таки будет как-то чувствовать, что где-то есть, хотя и покинутый, но все-таки его ребенок, будет “девушка-матъ”, лишенная своего мужа и отца своего ребенка, будет, наконец, ребенок, лишенный и отца и семьи. За минуту “свободной любви” будут платить все трое. Этого “теоретики свободной любви” то ли не заметили, то ли не захотели заметить.
Итак, — “гении”, в своем блестящем одиночестве от мира, высидели свою теорию и эта теория была “брошена в массы” — она имела стотысячные тиражи и она обсуждалась в каждой мансарде. Но и стотысячный тираж — только легкая рябь над жизнью сотен миллионов семейств. “Масса”, в сущности жила по-прежнему, и на свободные кровати бросились всякие сексуальные отбросы, люди, у которых их сексуальная сторона выросла кособоко, и изо всех творческих сторон пола осталось только голое либидо. Набросилась мужская молодежь — в общем хорошие ребята, но еще молодежь — то есть люди не взрослые, не зрелые и еще неполноценные: еще ученики, а не строители. Ребята только что вышедшие из красноиндейской идеологии для того, чтобы заняться красно-социалистической. Бросились истерички больших городов. Ни крестьянства, ни даже “пролетариата” это не коснулось никак. Но, в конечном счете, пришлось платить и крестьянству и даже пролетариату. Ибо дело шло о разрушении всех устоев общества и о снятии всех запретов религии и нравственности: проституирование быта было необходимо для революционного сознания.
За “революцией пола” пошли половые подонки, иначе, конечно, и быть не могло. Так, кто же пошел за революцией вообще? Какие “массы” “делали революцию” и в какой именно степени “народ” несет ответственность за Консьержери, Соловки и Дахау?
Наш эмигрантский писатель М. Алданов рассказывает, как он однажды в Париже сказал проф. Олару — крупнейшему авторитету в истории французской революции: “Вы, мэтр, знаете французскую революцию, конечно, гораздо лучше нас, но мы понимаем ее лучше, чем понимаете вы”. Проф. Олар обиделся. Я думаю, что обида проф. Олара была бы безмерно большей, если бы ему, как и нам. пришлось бы проверять теоретические выводы практическим стажем революционной жизни. Он читал о тех людях, которые делали французскую революцию, мы видели тех людей, которые делали русскую и германскую.
Непосреdcтвенные .наблюдения бесспорны для наблюдателя, но, к сожалению, только для него одного. Они почти недоказуемы. Читатель вправе им поверить, по вправе и не поверить. Я думаю, что мне поверят люди, лишенные глубоко философски исторического образования и связанных с ним теорий, обладающие здравым смыслом, знанием жизни и людей. Они, вероятно, согласятся со мной, по крайней мере, в одном: иначе, собственно говоря, и быть не может.
Я до сих пор — почти тридцать лет спустя, с поразительной степенью точности помню первые революционные дни в Петербурге — нынешнем Ленинграде. Эти дни определили судьбы последующих тридцати лет, так что, может быть, не очень мудрено помнить их и по сию пору. Причины Февральской революции в России очень многообразны — о Них я буду говорить позже. Но последней каплей, переполнившей чашу этих причин, были хлебные очереди. Они были только в Петербурге — во всей остальной России не было и их. Петербург, столица и крупнейший промышленный центр страны, был войной поставлен в исключительно тяжелые условия снабжения. Работницы фабричных пригородов “бунтовали” в хлебных хвостах — с тех пор они стоят в этих хвостах почти тридцать лет. Были разбиты кое-какие булочные и были посланы кое-какие полицейские. В городе, переполненном проституцией и революцией, электрической искрой пробежала телефонная молва: на Петербургской стороне началась революция. На улицы хлынула толпа. Хлынул так же и я.
На том же Невском проспекте, только за четыре года до “всемирно-исторических” февральских дней, медленно, страшно медленно двигалась еще более густая толпа: в 1913 г. Санкт-Петербург праздновал трехсотлетие Дома Романовых, толпа вела под уздцы коляску с Царской Семьей: коляска с трудом продвигалась вперед. Сейчас, в 1917 году — тот же Невский, такая же толпа, только она уже не ликует по поводу трехсотлетия Дома Романовых, а свергает, или собирается свергать, монархию, монархию, которая при всех ее слабостях и ошибках просуществовала все таки больше тысячи лет. Подозревала ли толпа 1917 года все то, что ее ждало на протяжении ближайших тридцати лет?
Можно бы сказать несколько слов о непостоянство массы. толпы, плебса. Но можно сказать и иначе: в двухмиллионном городе можно наблюдать десять разных пятидесятитысячных толп, составленных изразных людей и стремящихся к совершенно разным деяниям. Можно собрать толпы на открытие общества трезвости и можно собрать толпу на разграбление винокуренного завода. В обоих случаях толпа не будет состоять из одних и тех же людей.
Правительство вызвало войска для восстановления порядка и войска отказались повиноваться правительству. Петербургский гарнизон состоял из трехсот тысяч “ратников ополчения второго разряда”, последний человеческий резерв, еще остававшийся для воинской повинности. Фактически это было истинно международный пролетариат, по болезни или физической слабости до сего времени освобождавшийся от воинской повинности. Вся гвардия была на фронте. Полиции было вообще мало.
Радио тогда еще не было. Но был телефон... Слух о “свержении” с молниеносной быстротой распространился по городу “и весь город” хлынул на Невский проспект, остальные улицы были, как пустыня.
На Невском проспекте столпилось тысяч пятьдесят людей, радовавшихся рождению революции, конечно, великой и уж наверняка бескровной: какая тут кровь, когда все ликуют, когда все охвачены почти истерической радостью: более ста лет раскачивали и раскачивали тысячелетнее здание, и вот, наконец, оно рушится. Можно предположить, что все те, кто в восторге не был — на Невский просто не пошли. Точно так же, как четыре года тому назад не пошли те, кто не собирался радоваться по поводу трехсотлетия Династии.
Бескровное ликование длилось несколько часов; потом где-то, кто-то стал стрелять — толпа стала таять. Я, по репортерской своей профессии, продолжал блуждать по улицам. Толпа все таяла и таяла, остатки ее все больше и больше концентрировались у витрин оружейных магазинов. Какие-то решительные люди бьют стекла в витринах и “толпа грабит оружейные магазины”.
Мало-мальски внимательный наблюдатель сразу отмечает “классовое расслоение” толпы. Полдюжины каких-то зловещих людей — в солдатских шинелях, но без погон, вламывается в магазины. Неопределенное количество вездесущих и всюду проникающих мальчишек растаскивает охотничье оружие— зловещим людям оно не нужно. Наиболее полный революционный восторг переживали, конечно, мальчишки: нет ни мамы, ни папы и можно пострелять. Наследники могикан и сиуксов были главными поставщиками “первых жертв революции”: они палили куда попало, лишь бы только палить. Они же были и первыми жертвами. Зловещие люди, услыхав стрельбу, подымали ответный огонь, думаю, в частности, от того же мальчишеского желания, попробовать вновь приобретенное оружие. Зеваки, составлявшие, вероятно, под 90 процентов “толпы”, стали уже не расходиться, а разбегаться. К вечеру улицы были в полном распоряжении зловещих людей.
Петербургские трущобы, пославшие на Невский проспект свою “красу и гордость”, постепенно завоевывали столицу. Но они еще ни в чем не были спаяны ни идеей, ни организацией; над этим, с судорожной поспешностью и на немецкие деньги, в подпольи работали товарищи товарища Ленина, — сам он был еще в Швейцарии.
Шла беспорядочная стрельба — и наследники могикан и сиуксов палили по воронам, фонарям, и, в особенности, по ледяным сосулькам, свешивавшимся с крыш. Зловещие люди, грабившие магазины, стреляли в чисто превентивном порядке: чтобы никто не лез и не мешал. Так что попадали и друг в друга... Зазевавшиеся прохожие, любопытные, выглядывавшие из окон мальчишки, “павшие жертвой в борьбе роковой” с незнакомым оружием, и зловещие люди, не поделившие награбленного — все это было потом, с великой помпою, похоронено на Марсовом Поле. По такой же схеме рождались жертвы и герои национал-социалистической революции, и Хорст Вессель, убитый по пьяному делу в кабаке, был возведен в чин мученика идеи: у него оказалась идейно выдержанная внешность.
Не претендуя ни на какую статистическую точность, я бы сказал, что перед моментом перелома от ликования к грабежам, толпа процентов на девяносто состояла из зевак — вот, вроде меня. Они были влекомы тем чувством, из-за которого наши далекие предки были изгнаны из рая. Я предполагаю, что из девяноста сыновей Евы — дочерей было очень. мало — человек с десяток имели при себе оружие. И у них была теоретическая возможность перестрелять зловещих людей, как куропаток. Но каждый из нас предполагал, что он — в единственном числе, что зловещие люди являются каким-то-организованным отрядом революции и, наконец, что где-то наверху есть умные люди — полиция, генералы, правительство, Государственная Дума и прочие, которые уж позаботятся о распределении зловещих людей по местам их законного жительства — по тюрьмам. Кроме того — и это, может быть, самое важное — как только началась стрельба, то все padres familias сообразили, что на Невском-то грабят магазины, а па других улицах, может быть. уже грабят его собственную квартиру. Сообразил это и я.
Мы с семьей — моя жена, сынишка, размером в полтора, года, и я — жили в крохотной квартирке, на седьмом этаже отвратительного, типично петербургского “доходного дома”. Окна выходили в каменный двор-колодезь, и в них даже редко проникали солнечные лучи. В эту квартирку я вернулся вовремя: какая то, уже видимо “организованная”, банда вломилась с обыском: отсюда, де, кто-то в кого-то стрелял. Стрелять было не в кого, разве только в соседние окна, наши окна выходили во двор. На ломанном русском языке банда требует предъявления оружия и документов. У меня в кармане был револьвер — я его, конечно, не предъявил. Я мог бы ухлопать человека два-три из этой банды, но что было бы дальше? Остатки банды подняли бы крик о какой-то полицейской засаде, собрали бы своих сотоварищей, и мы трое были бы перебиты без никаких. Я предъявил свой студенческий билет — он был принят, как свидетельство о политической благонадежности. Банда открыла два ящика в комоде, осмотрела почему-то кухонный стол и поняв, что отсюда ничего путного произойти не может, что грабить здесь нечего, и отправилась в поиски более злачных мест. На улице загрохотал и умолк пулемет. Раздался глухой взрыв. Потом оказалось: другая банда открыла жилище городового. На другой день трупы городового, его жены и двух детей, мы, соседи, отвезли в морг.
Вот так, в моменты общей растерянности, — правительственной в первую очередь — были пропущены первые, еще робкие, языки пламени всероссийского пожара. Пх можно было бы потушить ведром воды — потом не хватило океанов крови. К концу первого дня революции зловещих людей можно было бы просто разогнать. На другой день пришлось бы применить огнестрельное оружие — в скромных масштабах. Но на третий день зловещие люди уже разъезжали в бронированных автомобилях и ходили сплоченными партиями, обвешенные с головы до пят пулеметными лентами. Момент был пропущен — пожар охватывалвесь город.
Практическое поучение, которое можно было бы вывести из опыта первых революционных дней, сводилось бы к тому, что в эти дни все порядочные люди страны должны были бы бросить все дела и все заботы свои и заняться истреблением зловещих людей всеми технически доступными им способами: револьверами, стрихнином, крысиным ядом — чем хотите. Риск, с этим связаный, не имеет никакогозначения, ибо, если вы пропустите момент первого риска, вы никак но уйдете от долгого ряда лет, где риск будет неизмеримо больше. Но я думаю, что этот рецепт утопичен.
Если бы в 1917 году мы знали и если бы в 1918 мы могли!
Но и 1917 году мы и понятия не имели, чем все это пахнет, а в 1918 году было уже поздно. И, кроме того, мы, средние люди всех стран и народов, веками и веками “грубого” эмпиризма, выработали на потребу нашу такую государственную организацию, которая была приноровлена к нашим — средних людей, — интересам, привычкам и прочему. Мы привыкли жить так, чтобы не ходить по улицам с ножом в руках для перманентной самообороны от уголовного элемента — на это имеется полиция. И когда полиция рушится — мы автоматически оказываемся неорганизованными и беспомощными. И на месте полиции так же автоматически возникает уголовный элемент, который годами и годами самоорганизовывался в борьбе против полиции и против нас.
Изгоните из любого города полицию и он автоматически подпадет под власть уголовного элемента. Так случилось и в Сан-Франциско во время землетрясения 1906 года. Так случилось в Чикаго времен Аль-Капоне — хотя в обоих случаях полиция отсутствовала не вполне. Но все таки многомиллионный и культурный город был терроризован кучкой профессиональных бандитов. Я не знаю биографии Аль-Капоне, но склонен теоретически предполагать, что он лишен был какого бы то ни было философского образования. И не догадался нанять себе хоть какого-нибудь хоть самого завалящего профессора. философии: тогда над обычным уголовным бандитизмом можно было бы поднять некое идейное знамя, а грабить со знаменем все-таки удобнее, чем вовсе без знамени. Всегда можно отыскать какого нибудь Штирнера (теоретик австрийского анархизма; автор книги “Единственый и его достояние”), чтобы соорудить идеологическую вывеску над тайным и явным присвоением чужого достояния. Можно также приноровить и Ницше: чем Аль-Капоне не сверхчеловек, стоящий естественно, по ту сторону добра и зла? Не исключен, вероятно, и Гегель, с его признанием всего существующего разумным — почему будет неразумным существование Аль-Капоне? Вообще, прейскурант философских идей дает почти неограниченный выбop. Россия в этом отношении была, вероятно, самой передовой страной мира и бакунинский лозунг: “дух разрушения есть дух созидающий” — был истинно находкой для всякой банды располагающей достаточно грамотными людьми. Одна из самых кровавых банд гражданской войны — “армия” Нестора Махно, имела вполне официальную идеологию — анархическую. Она занимала города и вырезывала евреев. И ее идейным штабом заведывал анархист Волин — еврей... Неисповедимы пути твои, философия... И кто знает, как повернулась бы история САСШ, если бы Аль-Капоне знал хоть что нибудь о могущественных силах, скрытых в безднах философской премудрости...
Мой призыв к револьверу, стрихнину и крысиному яду может показаться варварским, бесчеловечным пли, по крайней мере, реакционным. Само собою разумеется, что виселицы в таких случаях были бы приемлемее, но что делать, если их нет, и если люди, которым мы, среднее человечество, поручили заботу о виселицах, исчезли с исторической сцены. Тогда нужно прибегать к любым способам истребления, ибо .они будут все таки дешевле, чем все то, что принесет с собою революция. В нашем русском случае, революция обошлась, по меньшей мере, в пятьдесят миллионов человеческих жизней. Сейчас человечество, только что открывшее ужасы Бельзена и Дахау, под свежим впечатлением, а также по понятной политико-человеческой слабости, склонно совсем забыть об ужасах Соловков, о тех пытках, которым подвергались миллионы людей, о том голоде, от которого погибли миллионы детей, о все том, что за эти тридцать лет пережили двести миллионов. Что человечнее: два килограмма стрихнина для начинателей национал-социалистической революции в 1933 году или миллионы тонн фосфора и тринитротолуола в 1939-1945 годах? Великие демократии мира сего, устроенные средними людьми для их, средних людей, потребностей, проворонили виселицы 1917 и 1933 годов — как их проворонили и мы, средние люди России и Германии. Если бы уэлльсовская “Машина времени” перенесла меня назад в 1917 год, я применил бы все, рискуя всем. Если бы эта “Машина времени” показала мне все то, что мне пришлось пережить от 1917 до 1946 года, я, человек в общем весьма жизнерадостный и оптимистический, предпочел бы пойти на любой риск, даже и на самоубийственный риск, ибо все то, что я пережил в течение следующих тридцати лет было сплошным риском, сплошным .унижением, сплошным страхом: процесс жизни стал мучительным процессом, смягченным только надеждой на то, что не может же все это, наконец, не кончиться! Из каждых 3-4 людей, присутствовавших при рождении великой и бескровной, погиб-один — я остался в числе уцелевших счастливцев. Но мой брат погиб на фронте Гражданской войны, мать моей жены умерла в тюрьме Чрезвычайки, моя жена разорвана советской бомбой, мой отец сослан куда-то на гибель. И это есть средняя цена революции для среднего человека страны. Любой риск в 1917 году обошелся бы дешевле.
Но мы проворонили. На второй день революции город был во власти революционного подполья. Какие-то жуткие рожи — низколобые, озлобленные, питекантропские, вынырнули откуда-то из тюрем, ночлежек, притонов — воры, дезертиры, просто хулиганье. И по всему городу шла “стихийная” охота за городовыми.
Почему именно за городовыми? Тогда я этого никак не мог понять. Можно было себе предcтавить, что победившая революция постарается истребить своего наслеdдcтвенного-врага — политическую полицию, “охранку” царского режима. Но городовые никакой политикой не занимались. Они регулировали уличное движение, подбирали с мостовых пьяных пролетариев, иногда ловили трамвайных воришек и вообще занимались всякими такими аполитичными делами, совершенно так же, как лондонские или нью-йоркские Бобби. За что же их-то истреблять?
Но зловещие люди гонялись за ними, как за зайцами на облаве. Возникли слухи о полицейских засадах, о пулеметах на крышах, о правительственных шпионах, и Бог знает, о чем еще. Мой знакомый, любитель фотографии, был пристрелен у своего окна: он рассматривал на свет только что отфиксированную) пластинку — его приняли за шпиона. При мне банда зловещих людей около часу обстреливала из пулемета пустую колокольню: какой-то старушке там померещился поп с “пушкой” — о том, как именно поп смог бы втащить трехдюймовое орудие на колокольню и что бы он стал из этого орудия обстреливать, зловещие люди отчета себе не отдавали. Они еще находились в состоянии истерической спешки: шли и другие слухи — о том, что к Петербургу двигаются с фронта правительственные войска, и что, следовательно, дело может кончиться виселицами; о том, что какие-то юнкера заняли какие-то подходы к столице — вообще дело еще не совсем кончено. Нужно торопиться. Зловещие люди явно торопились: Carpe diem. Наиболее сознательные из них подожгли здание уголовного суда.
Тогда я тоже не мог понять: при чем тут уголовный суд? Огромное здание пылало из всех своих окон, ветер разносил по улицам клочки обожженной бумаги, я нагнулся, поднял какую-то папку, и сейчас же около меня возникла увешанная пулеметными лентами зловещая личность: “тебе чего здесь, давай сюда!” Я послушно отдал папку и отошел на приличную дистанцию. Зловещие люди тщательно подбирали все бумажки и также тщательно бросали их обратно в огонь.
Смысл этого “ауто да фе” я понял только впослеdcтвии тут, в здании уголовного суда горели справки о судимости, горело прошлое зловещих людей. И из пепла этого прошлого возникало какое-то будущее. Но — какое? Если об этом не догадывался даже профессор Милюков, то как о нем могли дать себе отчет люди, только что вынырнувшие из уголовного подполья? Так, в 1789 году такие же зловещие люди жгли парижский уголовный суд. А в 1944 — какие то люди из бельгийского “движения сопротивления” подожгли брюссельский Дворец Правосудия. В Гамбурге в 1933 — гамбургский суд; в Берлине — берлинский. Что общего имеет дело освобождения Родины от немецких оккупантов с бельгийскими справками о судимости?
Прошлое было сожжено. Что оставалось для будущего? Если с фронта придут апокрифические правительственные дивизии — будущее станет совершенно ясным: виселица или снова, тюрьма. Но если не придут? Если проклятый царский режим будет свергнут окончательно и бесповоротно и на месте его возникнет истинно демократическая республика? Что тогда станут делать зловещие люди? Сдадут свои пулеметные ленты в какую-то новую полицию? И возьмутся за тот “свободный и мирный труд”, которым они в жизни своей никогда не занимались? А если бы и случилось заниматься, то разве им, творцам новой, невыразимо прекрасной жизни и завоевателям нового, невыразимо прекрасного общественного строя, снова опускаться на какое-то дно жизни, становиться за станок — это в дни всеобщего, революционного праздника, в дни воскресения зловещих людей из праха справок о судимости? Вдумайтесь в их положение и вы сами увидите, что кроме “углубления революции”, “перманентной революции”, как это формулировал Троцкий, им не оставалось ничего. И они, вооруженная масса городcких подонков, не могли не пойти за Троцким и Лениным — ибо все остальное грозило бы им, по меньшей мере, возвращением в первобытное состояние, возвратом на общественное дно. Они, эти люди, рыскали потом с митинга на митинг, поддерживая своими глотками и своими винтовками тех вождей, которые обещали наивысшую плату в самый короткий срок. Которые предлагали наиболее полную гарантию от репатриации зловещих людей в ночлежки, тюрьмы и притоны. Наивысшую цену и в кратчайший срок предложил Ленин. Если бы он поцеремонился и усовестился, нашлись бы другие — менее церемонные и менее совестливые.
Так, на. моих глазах шел великий аукцион революции: кто дает больше и — еще — кто даст скорее. В этом истинно социалистическом соревновании автоматически было сметено все, в чем была совесть. Потом, впоследcтвии, научные обозреватели социальной революции будут все это взваливать на плечи многострадального пролетариата. Обозреватели революционные, — чтобы сказать: “с революцией был весь пролетариат”. Реакционные, — чтобы сказать: “вот, он, ваш пролетариат”. Опытом всех семнадцати лет революции могу засвидетельствовать категорически: пролетариат был тут совершенно не при чем.
Но вот: справки сожжены, бриллианты ограблены, городовые перебиты. На тысячах митингов прощупывается связь между “массой” и “вождями”. “Массы” жаждут гарантии от тюрьмы к виселицы. Но той же гарантии жаждут и вожди. Массы требуют наибольшей платы и вожди требуют наибольшей “бдительности”. В самом деле: что станется с вождями, если масса дифференцируется, разбредется, или просто займется пропиванием награбленной движимости? С чем тогда останутся вожди? И вот, от зловещих вождей зловещей банды идет исторически повторяющийся и логически неизбежный “караул”: “революция в опасности”. “Завоевания революции в опасности”. Идет полиция и несет с собою виселицы. Caveant pitecantropes. “Революционный держите шаг — неугомонный не дремлет враг” Враг мерещится из-за каждого угла, и за каждым углом он, действительно, сидит. Но враг мерещится и там, где его и в помине нет. Начинается охота: за “подозрительными” французской революции, “контрреволюционерами” — русской, “предателями народа” — германской. Воздвигаются гильотины, виселицы и плахи; начинается террор. И — от первого дня революции до самого ее последнего дня, до самого последнего дня — идет смертельная, звериная борьба между пролетариатом и революцией. Самым страшным врагом революции является именно пролетариат — ибо он, а не “буржуазия” умирает с голоду.
Итак: революция совершена. Старый режим свергнут. Сейфы ограблены. Хлебных очередей больше нет, ибо нет хлеба. Зловещие люди, успокоившись от своих страхов по поводу “фронтовиков”, идущих наводить порядок, хлынули в игорные дома. Игорные дома в Петербурге в 1917 году росли так же, как и в Париже в 1789. Краса и гордость революции швырялась кредитками и золотом, золото и кредитки уходили так же быстро, как и пришли: зловещие люди не отличаются предусмотрительностью. Рабочий Петербург, как и рабочий Париж начинали голодать совсем всерьез: это рабочие, а не буржуазные жены стояли по ночам в парижских и петербургских очередях, это пролетарские, а не буржуйские дети попадали в беспризорники. У “буржуазии” что-то оставалось и “буржуазия” всегда имела свои пути заграницу. Голодал, мерз и гиб — именно пролетариат.
Итак: городовой истреблен, буржуй ограблен, хлеба нет, пролетариат глухо волнуется, а зловещие люди, дураки, расходятся по своим собственным делам: по притонам, кабакам, игорным домам. С чем же остаются вожди? На что опереться вождям? Нужен новый вопль о новом “взрыве энтузиазма”. “Революция в опасности! Революция в опасности!”. Король пытается покинуть Париж. Корнилов пытается захватить Петербург. Гидра контрреволюции свила себе гнездо в Кобленце. Гидра контрреволюции свила себе гнездо на Дону. Тираны лондонской биржи готовят петлю для завоевателей революции! Капиталисты лондонской биржи готовят петлю для революции. Товарищи питекантропы! Над вашими головами качается петля! Рволюционный держите шаг! Бросайте ваши притоны — дело идет о петле и о жизни! Aux armes, citoyens! К оружию, товарищи!
Товарищи бросают карты и берутся за винтовки — дело действительно идет о петле или о жизни, на этосоображение хватает мозгов даже и у них... Вот так оно и идет: от самого первого дня революции до самого последнего. Иначе не бывает и иначе быть не может...
...Ровно двадцать лет спустя после нашей революции, в 1937 году я попал в Париж, во время парижской всемирной выставки. Я не был на положении туриста. Мне приходилось вести, поистине, чудовищную работу и не было никакого времени следить за французским общественным мнением, и не было даже времени посетить выставку. Были основания опасаться коммунистического покушения, и мои друзья держали меня в положении, так сказать, “усиленной охраны”. Я видел очень мало. Но то, что я видел, было жутко.
На улицах Парижа появились те же зловещие люди, как и на улицах Петербурга 1917 года. Я был в Париже летом 1914 года — и тогда таких людей я не видал. А, может быть, не замечал? Те же сжатые кулаки и стиснутые зубы, те же, сдавленные черепа и куриные грудные клетки. То же “a bas” Выло ясно: французские недоноски собираются следовать примеру русских недоносков. Такая же грязь на улицах Парижа, какая была и на улицах Петербурга — только у нас, по условиям русской флоры, валялась подcолнечная шелуха, здесь валялись апельсиновые корки. Гарсон в кафе вышиб меня вон, потому что я вместо saucisse заказал: saucisson, и смотрел на меня как на кровопийцу, хотя его крови я никак пить не собирался. Из всех павильонов французской выставки — французский павильон так и не был достроен до самого конца выставки: рабочие бастовали. Выли времена “народного фронта” и “пролетариат” шатался по митингам. А с востока, высовывая свою разведывательную и разнюхивательную голову из-за Рейна, братская социалистическая, рабочая германская партия уже позванивала и танками, и кандалами.
Воздух Парижа пах Керенским. И Лениным — тоже. Только в отличие от русского примера, соответствующий Ленин пришел из Германии.
Сейчас принято ругать Гитлера — не хочу хвалить его и я. Но все-таки думаю, что победа Гитлера обошлась Франции дешевле, чем обошлась бы победа Торреза. Впрочем, есть шансы и на обе победы: после гитлеровской еще и торрезовской. Но какое дело до всего этого питекантропу? Уже по одной емкости своей черепной коробки он не в состоянии вместить в себя никаких мыслей о последcтвиях, маячащих дальше его собственной эпидермы. Если бы это было иначе, — подонок не был бы подонком, он был бы нормальным членом нормального общества, он не опустился бы “на дно” буржуазного общества и не полез бы на “вершину волны” революционного. Современная криминология давно уже сняла романтическую тогу с обычного преступления. Но современная историография еще не сделала того же по отношению к социальным преступлениям. Однако, грабеж и убийство не перестают быть грабежом и убийством только потому, что число их увеличивается в сто тысяч иди в миллион раз. Но если бы историография стала бы на точку зрения криминологии и грязную уголовную хронику великих революций так и подала бы публике — как грязную уголовную хронику, а не как романтические, хотя и кровавые взлеты в надмирные высоты — то, что тогда стало бы с кафедрами, тиражами и гонорарами?
Я очень хорошо понимаю, моя характеристика деятелей революции наводит читателей на унылые мысли о моей реакционности, пристрастности, односторонности п прочих таких нехороших вещах. Да и я сам, переживая десятки лет вот эти впечатления, много-много раз пытался установить: в какой именно степени я сам являюсь жертвой оптического обмана. Да, я “обижен революцией”. Да, я, с юных лет моих “отбросил революцию”, как и революция отбросила меня. Естественно возникло некое “общество взаимной ненависти” — моей к революционерам и революционеров ко мне. Но, вот, я все-таки и до сих пор как-то жив. Сотни тысяч, а может быть и миллионы людей, “принявших революцию”, давно отправлены; ею на тот свет — вот вроде Троцких, Бухариных и прочих. Дантон, по дороге на эшафот, орал благим матом: “в революции всегда побеждают негодяи!”. Надо предполагать, что Дантон знал кое-какой толк в революции — хотя надо также предполагать, что он перед этим ничего не говорил о негодяях, отправляя на эшафот других людей. Робеспьер, пытаясь накануне 9-го термидора получить свое слово в Конвенте орал: “предcедатель убийц, я требую слова!” — дня за два он, вероятно, не назвал бы Конвент сборищем убийц. Но, вероятно, Робеспьер тоже кое-что понимал в механике революции. Фуше русской революции, преdcедатель ВЧК-НКВД, Ягода, был расстрелян потихоньку— без жестов и речей — и мы так и не узнали его последнего слова об убийцах и негодяях — большая потеря для будущих профессоров истории русской революции. Но, во всяком случае, моя характеристика, революции, более или менее, совпадает с характеристиками Дантона и Робеспьера, Троцкого и, вероятно, Ягоды. С той только разницей, что для Дантона “негодяи” начинались как paз после него самого. Для Робеспьера также начинались “убийцы”, для Троцкого — “узурпаторы и убийцы”, для Ягоды — уж я не знаю кто. Чекисты, что-ли? Я же считаю негодяями, убийцами, насильниками и вообще сволочью их вcex: и до их казни и после их казни. Ягода — до своей гибели — убил миллионы людей и Троцкий организовал убийство этих миллионов, — Ягода был только “фактическим исполнителем”. Все они — все, — строили организацию человекоубийства и восторгались этой организацией, пока она не потащила на эшафот их самих. И только тогда, на пороге этого эшафота, когда, все равно —все уже пропало, — они выкрикивают свою преdcмертную правду о негодяях и убийцах.
Но можно предположить, что не только я, контрреволюционер, но и Дантоны с Троцким — революционеры на все сто процентов, — и они на пороге эшафота поддались оптическому обману, впали в односторонность и пристрастие, и великих людей истории обозвали просто и банально: негодяями и убийцами. Так же, как задолго до своей гибели, обозвал их Николай Второй. Как — задолго до Николая Второго, их обозвал Достоевский, — а Достоевский перед остальными русскими писателями имел то преимущество, что он сидел на каторге по обвинению в принадлежности к революционной организации: он эту публику знал.
Ощущение оптического обмана, все-таки, как-то давило: а, может быть, именно я оказался неким социальным подонком, дезертиром великого будущего, дальтонистом, в глазах которого всякий оттенок красного цвета, принимает окраску грязи? Может быть “избранные” именно они, вот эти питекантропы? А именно я являюсь “пережитком проклятого прошлого”, поборником всяческих поповских суеверий и мещанских предрассудков — этакою семипудовой препоной на путях к невыразимо прекрасному будущему? А именно они, питекантропы, прут Per aspera ad astra, преодолевая, в числе прочего, также и меня. Да, и они “гибнут в борьбе роковой”. падая мученическими жертвами во имя всяческих благ человечества, — они мученики идеи и страдальцы за униженных и обиженных, угнетенных и оскорбленных? Словом — что, несмотря на их атеизм и мою религиозность — именно их устами орет истина: “отнял бо Бог от седых и умных и отдал детям и неразумным”?
Уже в эмиграции я снова перечитал Ипполита Тэна, кажется единственного историка, который занялся, так сказать, химическим анализом французской революции — кропотливым исследованием вопроса: так кто-же, собственно, делал эту революцию? Он изучил тысячи биографий наиболее выдающихся деятелей французской революции, и — вот его резюме:
“Люди, выбитые из жизненной колеи, сумасброды и негодяи всякого рода. и всякого слоя, особенно низшего, завистливые и озлобленные подчиненные, запутавшиеся в делах торговцы, пьянствующие и слоняющиеся без дел служащие, завсегдатаи кафе и кабаков, городcкие и деревенские бродяги, уличные женщины — одним словом. всякие паразиты общества... Среди всего этого сброда — несколько фанатиков, в поврежденных мозгах которых легко укоренились модные теории; все остальные, по большей части, просто хищники, эксплуатирующие водворившиеся порядки и усвоившие себе революционную догму только потому, что она обещает удовлетворить всем их похотям. Из этих подонков невежества и порока якобинское правительство набирает личный состав своего штаба и своих кадров”.
Другие историки — много других историков, вот из числа тех несмышленышей русской профессуры, которые, зная ход и результаты французской революции, готовили русскую, которые анализировали революции прошлого для организации революций будущего — и сбежали потом заграницу, — упрекали Тэна в узости, односторонности, в мещанстве и непонимании великих целей революции. Но его фактических данных не пытался, кажется, опровергнута никто. Итак, значит “подонки невежества и порока”. Те же люди, которых своими собственными глазами видал я, те же люди, о которых предупреждал Достоевский, охранка, Николай Второй — а Он, конечно, знал все данные охранки, — те же люди, которых на пороге эшафота аттестовали их собственные вожди: “негодяи” и “убийцы”. Что, собственно, я и пытаюсь доказать.
Оптический обман исключается полностью. Но остается систематпческий обман со стороны исторической литературы. Наши профессора нам врали. Врали сознательно и обдуманно. Нам, молодежи, читателям, стране> — систематически подcовывались: заведомо подтасованные факты, заведомо искаженная действительность — и историческая, и современная, заведомо завиральные теории, построенные на базе заведомо лживой информации. Что удивительного, если в толпе февраля 1917 года, в толпе, треть которой состоит из людей, осужденных будущей революцией на cмертную казнь, люди орали “да здравствует” своему собственному эшафоту? Как обвинять юношей и девушек с заводов и университетов, которые не знали и не могли знать, чем грозит им завтрашний день сегодняшней “великой и бескровной”? И как оправдать профессоров, которые не могли не знать, не имели права не знать, ибо за это знание, мы, страна оплачивали их кафедрами, званиями, почетом и деньгами?
Обреченная толпа, под кровавыми знаменами, текла навстречу дням своей гибели: аvте, revolutia, morituri te salutant! Зловещие люди уголовного подполья уже оттачивали свои ножи, а зловещий человек политического — Владимир Ленин уже вел переговоры с германским генеральным штабом. И над этим страшным союзом развевался лживый стяг:
“Пролетарии всех стран, соединяйтесь”!
| Год издания | 2019 |
| Страниц | 656 |
| Издательство (Производство) | ФИВ, Двуглавый орел |
| Формат | 60х90/16 (210х150 мм) |
| ISBN | 978-5-91862-060-1 |
| Автор | Иван Лукьянович Солоневич |
| Артикул | 01-21611 |
| Бумага | Офсетная |
| Переплет | Твердый |
 Имперская политология: поиск истины 690 руб. / шт.
Имперская политология: поиск истины 690 руб. / шт.  Древний Обдорск и заполярные города-легенды. Серия: Древнерусское деревянное зодчество. Выпуск 1 2 000 руб. / шт.
Древний Обдорск и заполярные города-легенды. Серия: Древнерусское деревянное зодчество. Выпуск 1 2 000 руб. / шт.  Христианское воспитание в историческом понимании 350 руб. / шт.
Христианское воспитание в историческом понимании 350 руб. / шт.  Очерки по истории Русской Православной Церкви ХХ века. Церковь в гонении. Церковь в пленении 880 руб. / шт.
Очерки по истории Русской Православной Церкви ХХ века. Церковь в гонении. Церковь в пленении 880 руб. / шт. 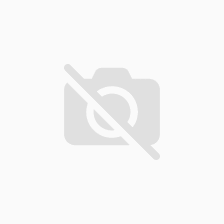 Домострой. Великая книга великой страны 698 руб. / шт.
Домострой. Великая книга великой страны 698 руб. / шт.